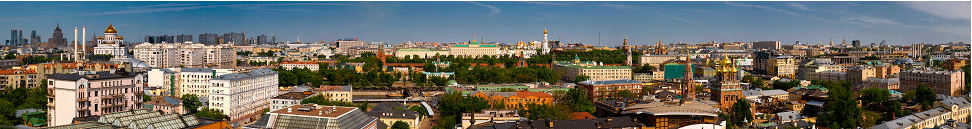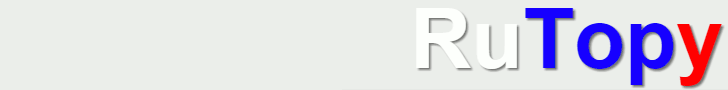Краледворская рукопись
Краледво́рская ру́копись (чеш. Rukopis královédvorský, RK; нем. Königinhofer Handschrift) — одна из самых знаменитых подделок в области славянской литературы и фольклора, тесно связанная с Зеленогорской рукописью (общая аббревиатура RKZ).
История
Среди литературных мистификаций, содержанием своим имеющих народный эпос, одной из самых известных можно считать Краледворскую рукопись. Спор о ней выплеснулся далеко за пределы научных кругов и продолжался много десятилетий.
Настолько интересна судьба ее и настолько очевидны те «осложнения», которые вторглись в научную дискуссию о подлинности, что на поддельных памятниках чешского эпоса следует остановиться подробнее.
После этих предварительных замечаний перейдем к изложению судьбы Краледворской рукописи.
В 1817 году один из чешских филологов и руководящих работников Чешского музея в Праге Вячеслав Ганка отправился для научной работы в город Кралев-Двор. Через два года весь научный мир Чехии и Германии был потрясен появлением древних списков чешского народного эпоса, к которым были приложены переводы на современные чешский и немецкий языки. Первый перевод сделан был самим Ганкой, второй — чешским поэтом Свободой. Открывший манускрипт Ганка в предисловии излагал историю открытия: в бытность Ганки в Кралеве-Дворе (рукопись названа именем этого города) один из капелланов посоветовал ему порыться в склепе краледворской церкви. Там он и нашел две узких пергаментных полоски и двенадцать листков пергамента, на которых и были написаны 8 эпических песен и 5 лирических. Разделения стихов в списке не было, и первые эксперты — известные чешские слависты Добровский и Палацкий — отнесли рукопись к концу XIII века либо к самому началу XIV. Почти одновременно с этой находкой найдены были и другие памятники чешской старины: в том же 1817 году открытая Линдой «Песня о Вышеграде», в 1818 году — «Любушин суд» (Зеленогорская рукопись), подаренная Чешскому музею неизвестным, и в 1819 году — в год издания Краледворской рукописи — «Любовная песня короля Вячеслава», доставленная в музей университетским библиотекарем Циммерманом и отнесенная Ганкой, который издал ее в 1823 году, к концу XII или началу ХIII века, т. е. за сто лет до списка Краледворского.
Уже через год после издания Краледворской рукописи она была переведена на русский язык и издана нашей Академией наук. А в Праге рукопись вновь была издана в 1829 году, в сопровождении исторического исследования и примечаний, а через семь лет — с польским переводом.
Каково же содержание Краледворской рукописи и памятников, одновременно с нею открытых? Достаточно наметить темы эпических песен рукописи, чтобы объяснить то волнение, которое охватило чешских ученых-националов, а за ними тот слой мелкопоместной дворянской интеллигенции национал-либеральных властенцев (народников), который выдвинулся на авансцену чешской общественности в ту эпоху. В песне «Забой и Славой» безыменный переписчик записал народную песню о победе чехов над каким-то чужеземным королем, имя которого не удавалось установить ни одному чешскому комментатору: предполагали Людовика Немецкого, направлявшегося с войсками на Регенсбург в 849 году, либо Дагобера, франкского короля, — в последнем случае эпизод отодвигался еще на двести лет назад, — но все эти предположения висели в воздухе. В песне «Честмир и Власлав» повествовалось о победе князя Честмира над изменником Крувоем в IX веке, в «Ярославе» — о победе чехов над татарами при Ольмюце в 1253 году, в «Бенеше Германыче» — о победе чешского князя Бенеша, имя которого упоминается в древней чешской летописи, над императором Филиппом, пришедшим с саксонцами в Чехию в начале XIII века, а в сохранившемся отрывке песни «Ольдрих и Болеслав» — освобождение чехов из-под власти поляков в 1004 году. Таким образом в пяти песнях найденной рукописи (Ганка предполагал, что часть эпоса погибла), составляющих пять шестых ее эпической части, повествовалось о торжестве предков чешских властенцев над иноземцами, а эпическая песня «Людиша и Любор» посвящена была съезду вассалов одного из чешских князей и турниру между ними — турниру, который доказывал, что Чехия приобщена была к культуре средневековья не меньше, чем ее сильные соседи. За эпической частью следовало две песни смешанного лиро-эпического характера об освобождении добрым молодцем невесты и об убийстве коварным врагом юноши, который сравнивался по красоте и силе с оленем (песня «Олень»). Список заканчивался пятью небольшими песнями, чисто лирическими в стиле славянских народных песен этого жанра: «Роза», «Кукушка», «Сирота и жаворонок» и др. Зеленогорская рукопись — песня «Любушин суд» — открывала чехам в далеких предках вполне развитое правосознание, воспитанное приверженностью к традициям — законам отцов. Два вассала княжны Любуши не поделили земель, и княжна требует их на суд народа. Один из вассалов, недовольный решением, восстает против княжны, после чего Любуша, обиженная таким неповиновением, отказывается от княжения, но находит защитника в лице другого вассала — Ратибора, устами которого говорит чешский народ, осуждающий непокорного Хрудоша за попрание закона предков. Найденная другом Ганки — Линдой — «Песня под Вышеградом» менее интересна, чем песни Краледворской рукописи; это — лиро-эпическое обращение к городу Вышеграду, стоящему на страх врагам над речкой Велтавой, по берегу которой в дубраве гуляет возлюбленная певца; по ней певец горюет. Что же касается «Любовной песни короля Вячеслава», то одно обстоятельство связало судьбу этой находки с судьбой Краледворской рукописи. Дело в том, что в Парижской национальной библиотеке хранится пергаментный список любовных песен конца XIII века, составленный в XIV веке Манессе, — так наз. Minnelieder. Все эти немецкие любовные песни приписаны составителем владетельным князьям, и среди Minnelieder имеется одна песня, приписываемая королю Вячеславу (Венцелю) Чешскому. Когда, по сообщению Ганки, передан был ему Циммерманом найденный чешский список этой песни, Ганка высказал уверенность, что немецкий текст песни является переводом с новонайденного чешского. А на обратной стороне пергаментного листка с чешским текстом находилась одна из песен Краледворской рукописи — «Олень». По мнению того же Ганки, а за ним и всех ученых-властенцев, это обстоятельство не заставляло сомневаться в подлинности Краледворской рукописи.
Первым, кто высказался решительно о подделке некоторых найденных списков, был упомянутый нами знаменитый чешский историк и филолог Добровский. В 1827 году он отверг подлинность «Суда Любуши», «Песни о Вышеграде» и «Песни короля Вячеслава». Голос его был одиноким, ибо все без исключения чешские ученые продолжали видеть в этих песнях древние памятники, не говоря уже о Краледворской рукописи, подлинности которой Добровский тогда еще не отрицал. Интересно отметить, что один из крупнейших в мире славистов той эпохи — Миклошич, не желая, повидимому, наносить удар чешскому национальному движению, отказался производить исследование Краледворской рукописи и не считался с фактом ее существования до конца своей жизни.
В течение двадцати лет после находки Ганки никто на страницах научных журналов не обвинял Ганку в подделке Краледворской рукописи. Но в 1837 году видный славист Копитар, скрывшись под псевдонимом, потребовал, чтобы была произведена тщательная экспертиза всех находок, и предположил наличие мистификации. Это нимало не поколебало уверенности чешских ученых и общественности в подлинности Краледворской рукописи. В 1843 году Ганка вновь издал полный ее текст — точная копия древнего списка — и список, разделенный на слова. Интерес к памятнику не падал, свидетельством чего может служить помещение в издании этого года переводов рукописи на польский, немецкий, английский (с именем переводчика Боуринга (Bowring) мы еще встретимся ниже) и отдельных отрывков на иллирийский и малороссийский. А в 1845 году все памятники вышли в переводе графа Туна на немецкий со статьей крупнейшего чешского слависта Шафарика, с примечаниями знаменитого историка чехов — Палацкого. Участие последнего в издании списков может служить показателем тех требований, какие предъявляли чешские мелкопоместные властенцы к ученым славистам. В своей «Истории чехов» на немецком языке Палацкий, за шесть лет до издания перевода графа Туна, назвал «Песню о Вышеграде» «приторной болтовней» и считал, как и Добровский, что она является переводом с немецкого подлинника Парижской библиотеки. Но эпоха «чешского национального ренессанса» требовала преклонения перед новонайденными рукописями, и предавать Ганку в руки «врагов чешского народа» было нельзя. И Палацкий, пойдя на компромисс со своей научной совестью, в примечаниях должен был забыть о своей оценке «Вышеграда». Прошло еще два года, и немецкий славист Гаупт впервые подверг уничтожающей критике версию Ганки о хронологическом соотношении двух текстов «Песни короля Вячеслава». В заседании Саксонского научного общества он прочил доклад о подлинности этой песни, доказав, что автор чешского перевода не знал некоторых немецких слов, чем и объясняется разночтение текстов, тогда как чех XIII века этих слов не мог не знать. Кроме этого Гаупт показал, что чешским мистификатором не замечена была одна описка в немецком тексте, причем, не заметив ее, переводчик извратил смысл. Трудно сказать, как отнеслись бы чешские националисты к потере «Песни короля Вячеслава», т. е. к признанию ее подлогом, если бы на обратной стороне ее не было «Оленя». Нежелание подвергнуть сомнению Краледворскую рукопись заставило славистов Чешского музея в течение нескольких лет отказывать молодому австрийскому ученому Фейфалику в производстве официальной экспертизы — палеографической и филологической — «Песни короля Вячеслава». В 1857 году эта экспертиза состоялась, и все доказательства Гаупта и Фейфалика подтвердились. Подлог «Песни короля Вячеслава» был признан официально. Тогда в особой статье Фейфалик развил доводы Копитара о возможности мистификации с «Краледворской рукописью». Чешские филологи братья Иречки потребовали у Фейфалика привести доказательства подложности рукописи. Вызов поднял анонимный автор в нескольких немецких статьях под заглавием «Handschriftliche Lugen und palaographische Wahrheiter», в которых он прозрачно намекал на Ганку, как на автора всех мистификаций с найденными в 1817—1819 годах памятниками славянского гения. Эти статьи вызвали крайнее возмущение чешских «народников». Палацкий, бр. Иречки, Томек, Гаттала, Капнер и другие встали на защиту Краледворской рукописи. Наступил наконец момент, когда немецкая славистика вплотную подошла к проблеме рукописи. Известный Макс Бюдингер поддержал противников Краледворской рукописи. В ответ на анонимную брошюру он ответил рядом статей, доказывающих мистификацию, каковую точку зрения разделили с ним многие немецкие ученые — славист Шваммель, один из лучших палеографов Ваттенбах и другие. Тем временем обнаружился подлог «Песни о Вышеграде», некогда переведенной Гёте. Грамматический анализ вскрыл наличие таких форм, которые могли появиться лишь в конце XIV века, а палеографическая экспертиза обнаружила под текстом следы какого-то другого текста — более позднего происхождения, чем песня.
В настоящее время мистификацию с «Краледворской рукописью» и связанными с нею памятниками можно считать прочно установленной. Как ни трудно было чешским властенцам помириться с тем, что «кленоты» — драгоценные камни — чешского гения оказались поддельными, но уже в конце 60-х годов «Песня о Вышеграде», «Суд Любуши», «Любовная песня короля Вячеслава» были признаны мистификацией даже чешскими властенцами. Исследование немецких славистов доказало подложность и «Краледворской рукописи». Борьба вокруг этой рукописи приняла политическую окраску с момента возникновения. Палацкий жаловался на «немецкую спесь». Едва ли это так, скорее всего те острые формы, в какие вылился научный спор по вопросу о подлинности, обусловлен желанием чешских ученых отстоять во что бы то ни стало материальные доказательства национально-культурного величия Чехии. Перемена взглядов самого Палацкого является прекрасной иллюстрацией. Мелкопоместное чешское дворянство перед лицом крупных немецких помещиков Чехии и тех чешских дворян, которые целиком ассимилировались с германской культурой, притязало на руководящую социально-политическую роль. Идеологи этих притязаний — чешские «властенцы» — мелкопоместная дворянская интеллигенция — искали национальной культурно-исторической опоры притязаниям. Чешские глоссы «Mater Verborum» и новонайденные памятники древнечешского эпоса являлись такой опорой. Прав наш известный славист В. Ламанский, называя уверенность в подлинности «Краледворской рукописи» «казенной верой», а рукопись — «условной официальной святыней». 1 Находка этих памятников едва ли не самое крупное явление в истории «чешского возрождения» первой половины прошлого века. Идеологические резервы — мистификация — двинуты были во время.
Кто же являлся автором этой подделки? Отрицать художественные достоинства «Краледворской рукописи» нельзя. Мистификатору, на основе сохранившихся памятников древнеславянского эпоса, удалось с большим вкусом стилизовать народные песни чехов ХIII века. Нам представляется нелишним привести образцы этой стилизации — тем более, что перевод Н. Берга является ныне библиографической редкостью.
Из песни «Ярослав»:
Короли на Западе узнали,
Что Кублай готовится ударить:
Перемолвились, набрали войско
45. И поехали на встречу к Хану,
Становили стан среди равнины,
Становили, поджидали Хана.
Вот Кублай сбирает чародеев,
Звездочетов, знахарей, шаманов,
50. Чтоб они решили ворожбою,
Будет ли, не будет ли победа.
Притекли толпою чародеи,
Звездочеты, знахари, шаманы;
Расступившись, кругом становились;
55. Положили черный шест на землю,
Разломили на-двое, назвали
Половину именем Кублая,
А другую назвали врагами;
Стародавние запели песни;
60. Тут шесты затеяли сраженье:
Шест Кублая вышел цел из бою.
Зашумели в радости татары,
На коней садилися ретивых —
И рядами становилось войско.
Из песни «Забой и Славой», (конец):
В том краю прошли метели,
В том краю прошли дружины,
В том краю направо и налево;
255. Там и сям дружины видны,
Крики радостные слышны:
«Брат, уж вот видна вершина,
Где нам боги шлют победу!
Там из тел выходят души
260. И порхают по деревьям.
Зверь и птицы их боятся,
Не боятся только совы.
Погребать пойдем убитых
Да богов своих покормим,
265. Принесем большие жертвы
Им, спасителям народа,
Возгласим и честь и славу,
И положим все пред ними,
Что у недругов отбили!»
Из песни «Ольдрих и Болеслав» (начало):
. . . . . . . . . . в лес дремучий,
Где владыки собирались вместе,
Семь владык с дружинами своими,
Выгон-Дуб в ночную темнеть прибыл,
5. Со своими прибыл молодцами:
Было с ним сто воинов отважных
И у всех в ножнах мечи гремели;
Сто мечей наточено булатных,
Сто десниц могучих наготове.
10. Удальцы владыко верно служат.
Вот пришли они в средину леса,
Стали в круг, друг дружке руки дали.
Разговоры тихие заводят.
Из песни «Любушин суд» (начало):
Гой, Велтава, что ты волны мутишь,
Сребропенные что мутишь волны?
Подняла ль тебя, Велтава, буря,
Разогнав с небес широких тучу,
5. Оросивши главы гор зеленых,
Разметавши глину золотую?
Как Велтаве не мутиться ныне:
Разлучились два родные брата,
Разлучились и враждуют крепко
10. Меж собой за отчее наследство,
Лютый Хрудош от кривой Отавы,
От кривой Отавы Златоносной,
И Стяглав с реки Радбузы хладной;
Оба брата, Кленовичи оба,
15. Оба родом от седого Тетвы,
Попелова сына, иже прибыл
В этой край богатый и обильный
Через три реки с полками Чеха.
Прилетела сизая касатка,
20. От кривой Отавы прилетела,
На окошке села на широком,
В золотом Любуши стольном граде,
Стольном граде, святом Вышеграде,
Зароптала, заплакала горько.
Художественные достоинства Краледворской рукописи являлись одним из доводов, к каким прибегали защитники подлинности. Вслед за бр. Иречками, написавшими книгу в защиту подлинности (филологических и культурно-исторических доказательств Бюдингера и палеографических выводов они не опровергли), наш академик Куник полагает, что в ту эпоху (в 1817 году) в Чехии ни один писатель не мог создать что-либо подобное «рукописи». 1 Но довод этот не выдерживает критики, ибо история литературных мистификаций являет неопровержимые данные, убеждающие, что большое творческое дарование проявляется у многих авторов замечательных подделок только в стилизации. Кто же является автором всех этих кленотов? Повидимому, Ганка, которому помогал живший одно время с ним Линда.
Проблема «Оссиана» еще и по сию пору продолжает привлекать внимание исследователей. Об этой мистификации мы знаем из школьных учебников, причем последние крайне упрощают проблему, разделяя взгляд П. В. Анненкова — редактора первого собрания сочинений Пушкина. Анненков писал по другому поводу: «Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока». 1 В отношении «Оссиана» мнение это ни в какой мере не применимо, ибо еще через сто лет после опубликования некоторые авторитетные ученые Англии защищали подлинность «Оссиана». Имена их: Мэтью Арнольд (Matthew Arnold), Д. К. Шэрп (J. С. Shairp), В. Ф. Скин (W. F. Skene), и Арчибальд Клерк (Archibald Clairk); последние двое — известные кельтологи, считавшие подлинными те кельтские оригиналы, о которых мы скажем ниже. Таким образом, если даже считать бесспорной подделку «Фингала» и «Теморы», и по сию пору не может не вызвать восхищения одаренность автора. Какова же история этой мистификации?
В 1759 году молодой шотландский учитель Джемс Мак Ферсон встретил Джона Хома (Home), автора трагедии «Дуглас», занимавшегося исследованием гэльской поэзии — поэзии шотландских кельтов. Мак Ферсону был 21 год, и незадолго до встречи он издал трагедию в шести песнях «Горец», обнаружившую полную бездарность автора. Молодой неудачный писатель, занявшийся педагогией, сообщил Хому, что в его распоряжении находится несколько старинных манускриптов, содержащих записи эпических поэм. Эти поэмы, по словам Мак Ферсона, еще не забыты в горной Шотландии. Два отрывка этих поэм он перевел на английский и показал Хому. Последний пришел в восхищение и послал образцы эдинбургскому профессору Блэру (Blair). Затем вместе с Блэром они обратились к молодому учителю с просьбой перевести все находящиеся у него отрывки. Мак Ферсон согласился неохотно, и в следующем 1760 году вышли в свет «Фрагменты древней поэзии, собранные в Горной Шотландии и переведенные с языка гэльского, или эрзи» 1 (эрзи — язык древних highlanders — жителей, населявших Горную Шотландию). Таких фрагментов было 16. О том, как встретил литературный и научный мир Англии появление этих фрагментов, можно судить по письмам известного поэта Томаса Грея (Gray). В письме к другому популярному поэту Уортону Грей писал: «Я совсем сошел с ума от них... Я так потрясен, я в экстазе от их бесконечной (infinite) красоты». 2
Оценку Грея разделяли в момент появления «Фрагментов» почти все его современники. Знаменитый философ Дэвид Юм писал о том, что все эти поэмы широко известны в Горной Шотландии, где передаются от отца к сыну в течение многих веков. Если и были скептики, то, во всяком случае, голоса их слышно не было, и сейчас же после появления шестнадцати отрывков организована была подписка для отправки Мак-Ферсона на север. Ему поручалось собрать и перевести другие образцы древнекельтской эпики.
По возвращении из поездки Мак Ферсон издал в 1762 году своего «Фингала». Название этой книги было таково: «Фингал, древняя эпическая поэма в шести книгах, вместе с другими поэмами, составленными Оссианом, сыном Фингала. Переведено с гэльского языка Джемсом Мак Ферсоном». 1 Через год вышла «Темора» (Temora) — в восьми книгах, с таким же, как у «Фингала», подзаголовком. Характер этих поэм, нужно думать, известен, но все же уместно будет вкратце о нем напомнить. Автором их являлся Оссиан, или Oisin, сын Фингала, или Финна Мак Кумгалла, короля одной из областей Шотландии — Морвина и вождя древнего военного клана Фениев. Предание относило Фингала к III веку нашей эры. Его сын Оссиан, слепой и старый, сидит в пещере либо в пустой зале дворца. Все его близкие умерли, около него только Мальвина, жена его покойного сына Осгара. Бард вспоминает о героическом прошлом и рапсодами торжественно и монотонно поет о днях своей юности. На фоне пейзажей Шотландии развертываются жизнь и обычаи кельтских военных кланов, приемы вождей скандинавских, битвы и пиры. Пейзажи мрачные — вечный туман над холмами, неприступные, вздымающиеся над океаном скалы, горные реки. В этой обстановке нередко появляются призраки героев, освещенные бледным светом луны. Словом — налицо все романтические аксессуары, которые мы встречаем в европейской поэзии начала XIX века.
Встречен был эпос с великим интересом, но понемногу скептические голоса стали слышаться более отчетливо. Первым, кто во всеуслышание заявил о предполагаемой им мистификации, был «литературный диктатор» той эпохи, знаменитый автор «Жизни поэтов», эссеист, критик и биограф Сэмюэль Джонсон (Johnson). Свои сомнения в подлинности он базировал не на анализе поэмы, а на утверждении, что древние кельты были некультурными варварами и создать таких поэм не могли. К тому же он сомневался, чтобы эпос таких размеров мог сохраниться в памяти современных шотландцев. Далее Джонсон считал, что ни один из кельтских манускриптов, написанных до XVII века, не сохранился, а таким образом ссылка Мак Ферсона на «кельтские оригиналы», по которым он-де работал, пользуясь также и устной передачей сказителей Горной Шотландии, является ложной.
Едва ли следует в настоящих строках останавливаться подробно на научной полемике, завязавшейся по поводу «Оссиана». Джонсон, как оказалось потом, во многом был неправ — в частности по вопросу о существовании старинных кельтских рукописей. В Эдинбургской библиотеке хранятся кельтские рукописи, относящиеся к XII веку. Интересно другое: на требования научных кругов представить эти «древнекельтские оригиналы», по которым производилась работа, Макферсон еще в 1762 году передал своему издателю несколько таких «оригиналов» — часть «Теморы». Каждый интересующийся мог с ними ознакомиться. После «Оссиана» Мак Ферсон издал очень посредственный перевод «Илиады», а затем «Историю Великобритании», обратившую на себя внимание. Выбранный в парламент, он не принимал участия в политической жизни и за несколько лет до смерти уехал в купленное им поместье, где и умер в 1796 году.
Выставленных у издателя «древнекельтских оригиналов» Мак Ферсон не опубликовал, несмотря на то, что для этой цели из Индии было прислано ему 1000 Фунтов. Только в завещании он предназначил эту сумму для издания «оригиналов», но лишь через одиннадцать лет после его смерти — в 1807 году, т. е. спустя почти полвека после появления «Фрагментов», Шотландское общество (Highland Society) опубликовало их в трех томах. Но в основу этого издания были положены не древнекельтские рукописи, а копии их и записи народного эпоса, написанные рукою Мак Ферсона или его секретарей. Такая же копия материалов для «Теморы» была выставлена у издателя. Таким образом документальных оригиналов никто не видел, устной передачи никто не слышал, и, стало быть, вопрос сводится к тому — действительно ли опубликованные материалы являются подлинными копиями оригиналов на древнекельтском языке и записями песен. В 1870 году один из упомянутых выше кельтологов, Арчибальд Клерк, перепечатывая эти три тома, изданные Шотландским обществом, утверждал, что оригинал и устная передача были кельтские и Мак Ферсон действительно перевел их на английский. Но, несмотря на защиту Мак Ферсона указанными учеными, в настоящее время следует считать установленной подделку этих изданных материалов. Прежде всего установлено, что «материалы» не только отличаются от образцов ранней кельтики лексически и грамматически, но и нарушают принципы кельтической древней метрики. Археологические исследования XIX века показали кроме того, что древние кельты жили в хижинах (hut-circles) и им известны были земляные укрепления (hillforts), 1 тогда как, по Мак Ферсону, древние кельты обитали либо в пещерах, либо во дворцах. Но кто является автором этих материалов? Переведены ли они самим Мак Ферсоном с английского на кельтский, или кем-либо другим? Вопрос этот, разумеется, никогда не будет решен, что в сущности и не важно. Ибо важнее установить, что никаких древнекельтских манускриптов не было, а это установлено, как не могло быть и записей. Ибо очевидно, что вся критика, перед которой не могли устоять материалы, разрушает не только легенду о документах, но и об устной передаче. Помимо этого ни одному из исследователей не удавалось записать в Горной Шотландии хотя бы отрывки «Оссиановского эпоса», а если учесть, что в предисловии к «Фрагментам» 1759 года Мак Ферсон выражает уверенность в существовании целого эпоса, то станет очевидным следующее: замысел написать «Оссиана» возник у Мак Ферсона еще тогда, когда он «Оссиановского эпоса» не знал. В Горной Шотландии действительно сохранилось предание о Фингале и барде Оссиане. Но и только. В эпоху мещанской слезоточивой литературы и «чувствительного человека» Грея и Юнга, Гольдсмита и Коллинса — Мак Ферсон своим «Оссианом» шел путями того же руссоизма, что и названные писатели, но руссоизма модифицированного. Пасторали деревенской жизни, противопоставляемые развращенной жизни «света», звали и у Томпсона — за четверть века до Руссо — и у Гольдсмита к благостной природе. И те же чувствительные души, которые предпочитали жить идиллической и мечтательной жизнью на лоне природы и плакать от избытка растроганности, не могли не потрястись суровыми контурами той жизни, какую вели герои Мак Ферсона. Это была жизнь еще более близкая к природе, чем у Томпсона и Гольдсмита. И эта жизнь показана была на таком фоне, с такими аксессуарами, что лучшей обстановки для своих философических размышлений протестантский мечтатель и придумать не мог. Романтический туман Горной Шотландии обволакивал его, заставляя пребывать в трепете перед «всемогущим», которому он так много любил посвящать медитаций. А примитивная жизнь этих героев эпоса заставляла его завидовать их потребностям — более чем скромным. И природа была еще более настоящая, чем в «Векфильдском священнике». И характеры еще более лишены светского лоска, которого не выносил сантиментальный мелкопоместный джентри, поклонник благочестивой и воздержанной жизни. Словом, Мак Ферсон давал этому мелкому сквайру, упивающемуся мещанской протестантской добродетелью, великолепное оружие для защиты своих идеалов чистой и честной жизни вдали от тех очагов, которые растлевают души. Завывание ветра и призраки, правда, пугали его, — следующее поколение оценит вполне и Уольполя с его «Замком Отранто» (1764) и Оссиана с леденящим душу пейзажем, — но все же Мак Ферсон мог рассчитывать на большое число читателей. Автор «Оссиана» обеспечил почитателю Юнга свободное произрастание целого комплекса эмоций, но этим эмоциям дано было расцвести позже — в дни романтизма, сменившего эпоху «чувствительного человека». Во всяком случае, влияние «Оссиана» на европейскую поэзию начала следующего века очень велико. Не место здесь на этом останавливаться. О художественных достоинствах «Оссиана» писалось не мало. «Фингалом» и «Теморой» восхищались Шатобриан и Шиллер, переводили Мак-Ферсона Гердер и Пушкин, Клопшток называл членов своего кружка «бардами», в личной библиотеке Наполеона, которую он брал с собой в походы, был «Оссиан». 1 В историю всемирной литературы автор бездарной поэмы «Горец» вошел своей замечательной мистификацией.
Этой судьбы все же не разделил молодой шотландский каменщик Аллан Кэннингем (Allan Cunningham), несмотря на то, что стилизация шотландских народных песен удалось ему в полной мере, и специалист по шотландскому фольклору Кромек (Cromeck), приехавший в 1809 году для записей кельтского эпоса Горной Шотландии, был восхищен доставленными ему Кэннингемом песнями. Молодой поэт приписал их бардам Хисдэлю и Голловею. Кромек попытался найти какие-либо данные об этих бардах, но ничего не нашел и издал полученные им записи под своей редакцией. Мистификация Кэннингема проведена была так хорошо, что удачливый собиратель песен получил от фольклористов немало поздравлений, 1 ибо до «открытия» этих бардов ни одной народной песни не было найдено в той области, где жил Кэннингем. Только через некоторое время обнаружилась подделка поэта-каменщика.
Эпос Оссиана нашел отклик и на материке, во Франции. Но во Франции мистификатор обратился не к героическим временам незапамятного III века, а к средневековью: в 1802 году вышли два томика «Le troubadour, poesies occitanoques». Подзаголовок гласил: «traduites par Fabre d'Olivet».
Фабр д'Оливе — Фигура крайне интересная. Исключительный эрудит почти во всех областях гуманитарных наук, он является автором филологического исследования «Восстановленный древнееврейский язык» (1815) и двухтомной «Философской истории рода человеческого» (1824). Свое филологическое исследование он строит на оккультных принципах, которые проникают и его историческую концепцию. Но, прежде чем целиком отдаться мистике иллюминатов, он выступил со своим «Трубадуром» — переводами неизвестных песен средневековых трубадуров, слагавших свои песни на наречии, которое он назвал «occitanique». Слова такого не существовало и не существует. «Occitanique», как объяснил Фабр, объединяло провансальское, лангедокское и все близкие им наречия. Но мистификация не прошла незамеченной. В эпоху консулата еще никто не интересовался поэзией Прованса. Время для появления «Las Papillotos» гасконца Жасмэна и «Mireille» Мистраля еще не настало. Литературная критика отозвалась на появление «переводов» молчанием, а Фабр д'Оливе после этой неудачи не пытался больше писать в стиле трубадуров и ушел в оккультизм.
В 20-х годах прошлого века события на ближнем Востоке заострили интерес молодой школы европейских романтиков к недавно «открытой» экзотической стране. На Востоке романтическая школа нашла тот материал, который благодаря своей новизне поддавался романтической обработке легче, чем греки и римляне далекого прошлого, на которых специализировалась классика. Тогда-то, в эпоху восстания греков, появились во Франции «Orientales» Гюго и в памятном 1824 году великий Делакруа выставил в Салоне «Бойню на Хиосе», которую классики окрестили «Бойней живописи». Романтики давали классикам бой на проблеме couleur locale, о котором, по их мнению, классики в своих греках и римлянах не имели представления. И в 1827 году молодой Мериме выпустил сборник песен «Guzla». 1 Ему было в это время двадцать четыре года. Содержание «Guzla» хорошо известно по «Песням западных славян», но едва ли так хорошо известны обстоятельства, сопровождавшие издание книги. Написав свои песни, Мериме обставил издание рядом предосторожностей, дабы у издателя не возникло подозрение в мистификации. Поэтому Мериме обратился к одному из популярных журналистов — Лингаи, которого никто в подделке заподозрить не мог. К сборнику Мериме дал предисловие, в котором упоминал, что, занимаясь собиранием песен «полудиких» народов, он, по совету друга, решился их опубликовать в переводах. Не ограничиваясь этим, он снабдил песни подробными комментариями, очерком о вампирах и о «дурном глазе», а в довершение всего присоединил биографию сказителя Иакинфа (Гиацинта) Маглановича. Последний, по словам переводчика, родился в Зониграде, сыном сапожника, который не научил его грамоте; в восемь лет Иакинф был похищен богемцами и увезен в Боснию, где обращен был в мусульманство. После ряда приключений он попал к одному католическому миссионеру, который обратил его в христианство, хотя рисковал сесть на кол, ибо турки-де нимало не поощряют работу миссионеров. Удрав от своего покровителя, Иакинф сложил «балладу» на тему о своем бегстве; аккомпанируя на guzla, он пел эту балладу и другие песни, переходя из села в село по Далмации. Затем он решил жениться, но на беду свою в его возлюбленную влюбился один из помещиков-морлаков, которого Иакинф убил, ибо тот мешал ему похитить невесту, — по обычаям страны невест похищают. После расправы с соперником Иакинф и молодая его жена бежали к гайдукам в горы и разбойничали вместе с ними, ибо гайдуки — espece de bandits. Оправившись от раны он вернулся с гор, купил ферму и зажил мирной жизнью. Мериме с ним-де познакомился, когда Иакинфу было шестьдесят лет, в 1816 году — во время путешествия по Далмации. В то время Мериме хорошо говорил по-иллирийски, и друг его, воевода Николай, зная, что путешественник хочет послушать певца-поэта, дал Маглановичу рекомендательное письмо к Мериме. Но в первый свой визит к любознательному путешественнику Магланович обманул его ожидания: наевшись и напившись, он заснул, и добудиться его было невозможно. Через некоторое время он снова пришел и пел народные песни, аккомпанируя на своей guzla, причем вся его фигура во время пения дышала «дикой красотой». Пять дней прожил сказитель у любителя фольклора, а затем, не предупреждая, исчез, захватив с собою два английских пистолета, но не польстившись на кошелек.
Дорисовав таким штрихом портрет бывшего гайдука, Мериме снабдил свой сборник литографией, изображающей дикого на вид горца с огромными усами, с ружьем в руке и пистолетами, торчащими за поясом. Это и есть воинственный «сказитель».
Судьба этой мистификации была довольно своеобразна. У читающей публики баллады не имели никакого успеха — издан был десяток экземпляров. Но в кругах специалистов «Guzla» оценена была высоко — у многих даже не возникало мысли о возможной подделке. Так например немецкий славист Гергарт пожелал перевести их на немецкий и отмечал тонко схваченные французским переводчиком особенности метра далматского стиха. М. Матич посвятил балладам несколько страниц в немецком «Архиве славянской филологии». Англичанин Боуринг, издавший «Русскую антологию» и переводивший, как мы упоминали, Краледворскую рукопись, просил у Мериме его записи.
Пушкин напечатал свои переводы пятнадцати песен в «Библиотеке для чтения» 1835 года Здесь они вышли без его предисловия, но в первом издании своих стихотворений (1835) он счел необходимым снабдить переводы предисловием. В этом предисловии он раскрывает имя сего «неизвестного собирателя», отмечая, что «поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий, и знаток в славянской поэзии, не усомнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию». «Мне очень хотелось знать, — пишет Пушкин дальше, — на чем основано изобретение странных сих песен». Очевидно, некоторые подозрения у Пушкина были, но, во всяком случае, можно считать, что он оказался более легковерным, чем Гёте, который сразу установил мистификацию, открыв в названии книги «Guzla» анаграмму Gazul — имени мнимого автора испанских пьес, о котором мы скажем ниже. Поэтому Мериме был совершенно прав, когда предпослал второму изданию «Guzla» ироническое предисловие, где, упоминая о тех, кого ему удалось провести своей мистификацией, называет и Пушкина.
Цели, какие преследовал молодой Мериме своей мистификацией, обнажаются анализом той борьбы, о какой мы упоминали выше, — борьбы романтиков с классиками, обусловленной перегруппировкой социальных сил в начале XIX века, на которой, в силу многих причин, нам не придется останавливаться. Даже если бы у нас не было объяснений Мериме, нетрудно показать, что «экскурсия на Восток» предпринята была молодым Мериме в поисках материала, дающего художнику возможность преодолеть затверженные каноны классики и опрокинуть рационалистическую схему идеальной красоты. На Востоке художнику открывалось много путей для борьбы с классицизмом — хотя бы изображением той beaute sauvage, о которой писал Мериме. Европейский романтизм начала века был следующим — и вполне логическим — шагом после руссоизма. Обнажение страстей экзотических героев в глазах европейца принимало такие великолепные формы, что Восток не мог не притягивать внимания. Руссоизм открыл «чувствительного» человека, бой романтиков за эмоцию против «классического» рассудка и меры привел к «человеку страсти». Европеец многого не понимал в способах выражения этой страсти примитивными гайдуками всех видов, даже слегка их побаивался, ибо хотя и не удивлялся, что сказитель Иакинф утащил с собой английские пистолеты, но не был уверен в том, не ощутит ли потребность этот самый сказитель расправиться с европейцем из украденных пистолетов, если какая-нибудь эмоция потребует выхода. Во всяком случае, полнота эмоционального характера была вполне очевидна: она, в сущности, и именовалась beaute sauvage. И она-то составляла ядро проблемы couleur locale, ибо на бытовых мелочах и обстановке классики боя проиграть не могли; они изучили лучше романтиков аксессуары Востока, но, не прельщенные «дикой красотой», отказывались постигать сложные пути «человека страсти» — примитивного существа, недалеко ушедшего от кельтов Оссиана, являвшихся прямыми восходящими героев Байрона, арабов в «Арабской фантазии» Делакруа и далматов Мериме. Египетский и сирийский походы Наполеона, разумеется, не прошли бесследно. О «янычарах» во Франции и в Европе узнали хорошо, а событиями в Греции читатель был подготовлен к принятию романтической экзотики лучше, чем это могло показаться воинствующим классикам. Успешное развитие романтического наступления является лучшим доказательством, что социальные предпосылки формирующейся школы достаточно определились, и экспрессивная манера романтического изображения пугала читателя и зрителя меньше, чем противников романтизма из «классического» лагеря. Разумеется, неуспех «Guzla» не колеблет этих выводов. Экзотический фольклор все же являлся слишком тонким блюдом для неокрепшего вкуса; для того, чтобы он выдержал испытание, нужен был «Эрнани» три года спустя после «Guzla».
Не вызывает сомнения предположение о том, что некоторую роль в выборе Мериме характера своей мистификации сыграл «Оссиан». Народный эпос древних кельтов, приводивший Мериме в восторг, не мог не натолкнуть молодого писателя на мысль испробовать свои исключительные способности стилизации в подделке именно народных песен. А о том, что Мериме знал и восхищался «Оссианом», нам известно из письма его друга Ж. Ж. Ампера, будущего историка Рима, к Жюлю Бастиду. Ампер писал в 1825 году: «Я продолжаю изучать с Мериме «Оссиана». Какое счастие дать точный французский перевод!» К тому времени уже сложилась уверенность в подделке кельтского эпоса (особенно после книги Малькольма Лэнга). Возможно, что Мериме знал это, но, как видно из приведенного письма Ампера, не придавал этому никакого значения и интересовался только художественной стороной песен Мак-Ферсона, а проверив свои силы на первой мистификации, — о ней мы скажем дальше — решился снова проверить на выполнении задачи более трудной, подсказанной ему Мак-Ферсоном.
Словно для подкрепления гипотез о «цели» «Guzla», Мериме оставил признание. Упоминаемое выше предисловие Пушкина к «Песням западных славян», помещенное в первом издании 1835 года, сопровождается французским письмом Мериме, крайне для нас интересным. Желая узнать, «на чем основано изобретение странных сих песен», Пушкин обратился к С. А. С. (С. А. Соболевскому — Е. Л.) с просьбой запросить об этом Мериме, с которым тот был «коротко знаком». Мериме в письме, помеченном 18 января 1835 года, охотно и любезно отвечает на заданные ему вопросы: ««Guzla» написана мною по двум мотивам, из коих первый — поиздеваться (se moquer) над couleur locale, в который мы с головой бросились в 1827 году».
На втором мотиве Мериме целесообразно остановиться в последней главе, ибо этот мотив есть действительно мотив индивидуальный — случайный в том смысле, что ни у кого из романтиков, которые захотели бы «поиздеваться» над couleur locale, его могло бы не быть. Конечно, это слово «se moquer» y Мериме не заключает в себе указания на желание его дать баллады в юмористически-пародийном стиле. «Guzla» не заставляет сомневаться, что Мериме замышлял — и дал — художественную стилизацию фольклора, но не пародию. Издевка заключалась здесь в том, что мистификатор вознамерился разрешить проблему «местного колорита» на основе более чем недостаточных знаний, полученных к тому же из вторых рук. Неслучайным является в истории «Guzla» выбор темы мистификации, неслучайной является та художественная трактовка примитивного характера, которая отвечала представлению поклонников романтизма о «дикой красоте» ближнего Востока; неслучайным наконец является максимальное использование всех этнографических данных, попавших в руки Мериме и удовлетворяющих любопытству тех, чье внимание к Востоку пробудилось. Своим признанием Мериме великолепно обнажил цель своей мистификации, показал, что рядом со случайным мотивом было у него задание извне, которое он разрешал вместе с другими романтиками, «бросившимися с головой» в проблему couleur locale.
Следует признать, что данные, которыми располагал Мериме для постижения особенностей никогда не виденной им страны и незнакомого народа, были более чем недостаточны. Вооружившись двумя книгами для усвоения местного колорита, Мериме приступил к своим балладам. Этими книгами являлись: брошюра французского консула в Бонялуке, старающегося доказать, что все босняки — «гордые свиньи», и цитировавшего несколько иллирийских слов, и «Путешествие в Далмацию» итальянского аббата Форти. Автор первой книжонки, как предполагает Мериме, знал об Иллирии не больше, чем создатель «Guzla», a из второй книги мистификатор, не смущаясь, заимствовал для своих примечаний немало материала — иногда он просто-напросто списывал целые абзацы. Свое замечательное письмо Мериме кончает так: «Передайте Пушкину мои извинения. Я горд и вместе с тем стыжусь, что провел его» (Je suis fier et honteux a la fois de l'avoir attrape).